Память св. мученицы Перпетуи и других с нею
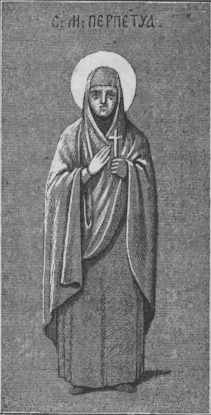
Св. Перпетуя, гражданка Карфагенская, дочь знатных родителей, отца-язычника и матери-христианки, супруга знатного человека, рано овдовела и дала обет жить только для Бога и воспитания единственного дитяти своего. Она еще не была крещена, но приготовлялась ко крещению, как 7-го марта 202 г., по указу императора Септимия Севера, в Карфагене ее схватили вместе с некоторыми другими, подобно ей оглашаемыми, то есть готовившимися ко крещению и изучившими истины веры христианской. В то время у Перпетуи были в живых родители преклонных лет и два брата, из числа оглашаемых. Она должна была и с ними расстаться, и оставить на чужих руках грудное дитя, которое кормила собственным молоком. Она сама описала жизнь свою в тюрьме и дальнейшие происшествия, а запись о мученической кончине сделана очевидцем и для очевидцев (см. Acta Sanctorum, Mart. I, 634).
«Мы были еще вместе с нашими тиранами, когда мой отец пришел употребить новые усилия для того, чтобы тронуть меня и убедить на перемену решимости. «Батюшка», сказала я, «видишь ли ты этот сосуд глиняный?» – «Вижу», сказал он. – «Можно ли», продолжала я, «дать ему другое название кроме того, какое он уже имеет?» – «Нет», ответил он. «Точно также», сказала я ему, «и я не могу быть иною, нежели какою существую теперь, т. е. теперь я христианка». При этом ответе моем, отец мой бросился на меня с целию выколоть мне глаза, но ограничился только грубым обращением со мной. Он растерялся, видя, что при всех хитростях, им употребляемых на совращение меня, он не в силах уговорить меня. Я возблагодарила Бога за то, что несколько дней не видалась с отцом, так как его отсутствие дозволило мне несколько успокоиться. Чрез несколько времени мы были крещены. Дух Святой, при моем выходе из воды, внушил мне ничего более не желать, как только терпения среди мучений.
Спустя несколько времени нас заключили в темницу; суровость, сырость и теплота места с первого раза поразили меня, потому что я не имела понятия о местах такого рода. Ох! как тяжек для меня тот день! Какой страшный жар! Тим было душно и тесно; кроме того нам приходилось каждую секунду видеть и испытывать грубости от солдат, нас карауливших. Наконец, меня мучило особенно то, что моего малютки при мне не было. Но? спасибо Терцию и Помпону, двум добрым диаконам! они хоть за деньги, а все-таки достигли того, что нам дали помещение попросторнее, где мы начали дышать свободнее. Каждый хлопотал о себе. Что касается меня, то я только и заботилась кормить грудью свое дитя, которое мне уже принесли и которое было слишком слабо для того, чтоб долгое время быть без материнской груди. Все мои попечения остановились на нем. Я больше всего просила родителей только о том, чтобы они не оставляли мое дитя... Истинно, я была сильно тронута, увидевши, какую любовь они имели ко мне. Долго я тосковала; но, после усиленных просьб оставивши при себе младенца, я скоро успокоилась; я благодушествовала; тюрьма сделалась для меня приятным жилищем; мне хотелось умереть именно здесь, а не в другом месте.
Однажды брат мой сказал мне: «сестрица! я уверен, что ты имеешь много силы пред Богом: вопроси же Его – умоляю тебя! – о том, чтобы Он дал знать в сновидении, или иначе как-нибудь, – придется ли тебе пожертвовать жизнию, или ты будешь возвращена, отослана назад». Зная, что я иногда имела утешение сподобляться от Бога откровений и каждый день получала тысячу знаков Его благости ко мне, я обратилась с молитвою к Господу, Который сподобил меня сновидения. Вот оно.
Я видела золотую лестницу, чрезвычайно высокую, которая доходила от земли до неба, но столь узкую, что едва можно было восходить по ней только по одиночке; бока этой лестницы были увешаны и утыканы острыми мечами, охотничьими ножами, дротиками, косами, кинжалами и длинными пиками, так что если кто пойдет по ней без осторожности и не глядя постоянно вверх, тот не может остаться целым среди таких орудий, и невольно придется оставить среди их значительную часть своего тела. При нижнем конце лестницы был страшный дракон, который, казалось, постоянно готов был броситься на тех, которые покушались взойти. Сатир постоянно домогался этого, и он вошел первым. Дошедши благополучно до самой последней ступени лестницы, он обратился ко мне с словами: «Перпетуя! я жду тебя, но опасайся, чтобы дракон не поглотил тебя». Я ему ответила: «я не боюсь его», и тотчас решилась идти по лестнице во имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда дракон, как бы испугавшись, тихо отворотил свою голову и, когда я подняла ногу на лестницу, тогда он послужил для меня первою ступенькою. Взошедши на лестницу, я очутилась в огромном саду, посреди которого я увидела благообразного человека в пастушеской одежде; волосы у него белы, как снег. Тут при нем было стадо овец, которых он доил, и вокруг его было бесчисленное множество лиц, одетых в белое платье. Он увидел меня и, назвавши по имени, сказал мне: «дочь моя! ты благополучно прошла». И дал мне молока, которое он только что выдоил; оно было так густо, как свернувшееся молоко. Я приняла его, сложивши руки, и съела; бывшие тут сказали: аминь. Я проснулась при этом слове и, действительно, чувствовала во рту что-то очень сладкое. При первом свидании с братом, я ему рассказала свое сновидение, и мы из него заключили, что нам скоро придется умереть среди мучений. С этого времени мы всецело стали отрешаться от земных предметов, и все свои мысли сосредоточили в вечности.
Чрез несколько дней, когда разнеслась молва, что нас поведут к допросу, приходит мой отец; печаль отпечатлевалась на его лице; смертельная скорбь снедала его. Он подходит ко мне и говорит: «дочь моя! сжалься над сединами своего отца, если я только стою того, чтоб называться твоим отцом! Если есть еще память в тебе о тех нежных и особенных заботах, которые я переносил при воспитании тебя, если ты еще признаешь, что моя крайняя любовь к тебе заставила меня предпочесть тебя обоим твоим братьям, то нс будь виновницей того, чтобы я сделался предметом позора для целого города. Тронься взорами твоих братьев, посмотри на свою родную мать, на свекровь, на свое дитя, которое не останется в живых без тебя. Убавь несколько этой хвастливой отважности – упорства; подумай немножко, и не подвергай всех нас неизбежному стыду. Кто из нас посмеет выйти в люди, если ты кончишь жизнь от руки палача? Пощади свою жизнь для того, чтобы не погубить всех нас». Говоря это, он целовал у меня руки; после того он, в слезах бросившись к ногам моим, называл меня госпожою. Признаюсь, я проникалась сильною скорбию, когда размышляла, что только отец мой останется один таким, который не извлечет никакой пользы от моей кончины. «Батюшка! сказала я, не тоскуй так; пусть будет только то, что будет угодно Богу; мы не властны в себе, но зависим от Ёго воли». Со скорбию и в непонятном унынии удалился мой отец.
Однажды, во время обеда, вдруг приказывают нам явиться к допросу. Лишь только по городу прошла об этом молва, в одну минуту зало, где допрашивают, наполнилось народом. Нас заставили взойти на что-то в роде сцены театральной, где судья имел свой стул. Все отвечавшие прежде меня громко исповедовали Иисуса Христа. Когда дошла очередь до меня и когда я уже приготовилась давать ответ в ту минуту явился мой отец с моим младенцем на руках слуги. Они отодвинул меня на несколько от судейского места, и в самых сильных словах умолял меня. «Ужели ты будешь, говорил он, бесчувственна к несчастиям, которые грозят этому невинному созданию, получившему жизнь от тебя?» Тогда председатель, по имени Иларий, преемник проконсула Минуция Тиминиана, недавно умершего, присоединился к моему отцу и обратился ко мне с такими словами: «ужели седые волосы отца, которого ты хочешь сделать несчастным, и невинность этого младенца, имеющего остаться круглым сиротою вследствие твоей смерти, ужели все это не в силах тронуть тебя? Только принеси жертву за здоровье императоров». Я ответила: «ни за что не принесу жертвы». Иларий возразил: «так ты христианка»? – «Да», – так ответила я. Между тем мой отец, все еще не терявший надежды уговорить меня и стоявший тут, получил удар палкою от привратника, которому Иларий приказал вывести его. Удар был чувствителен для меня. Я ахнула, увидавши, что из-за меня так грубо и низко обращаются с моим отцом, и сожалела о несчастной его старости.
В то же самое время судья произнес приговор, по которому мы должны быть брошены зверям. Выслушавши решение, мы сошли с трибуны и с радостию пошли по дороге, ведущей в темницу. Как только я вошла в тюрьму, тотчас послала диакона Помпона попросить дитя у моего отца, который никак не хотел мне дать его. И, по милости Божией, дитя более не имело нужды в молоке матери, и я нисколько не была расстроена от моего молока. Таким образом я была вполне спокойна в душе; ничто меня не опечаливало.
Не много прошло времени после того, и нас перевели в темницу, так как мы были назначены для представлений, которые должны были даваться в Кампе в день рождения Геты-Цезаря; на всех нас наложены были цепи до того дня, в который нас нужно было выдать зверям.
По прошествии нескольких дней, начальник темничной стражи, замечая, что Бог покровительствовал нам обильно, сделал столь великую честь нам, что дозволил свободно входить к нам нашим братьям, которые приходили к нам, с одной стороны, с целию утешить нас, а с другой, самим получить утешение. Но, за несколько дней до представлений, я увидала: входит мой отец туда, где были мы, в таком тяжком и мрачном унынии, которого нельзя изобразить. Он рвал свою бороду, бросался на землю и лежал на ней, обернувшись к ней лицом, издавая крик и всячески проклиная тот день, в который он родился. Он горевал о том, что прожил так много времени; он называл свою старость несчастною; одним словом, он говорил так печально и трогательно, что доводил до слез слушавших его и возбуждал в них сочувствие к себе. Я умирала от скорби, смотря на жалкое его положение.
«Наконец, накануне представления, я видела сон. Мне показалось, будто диакон Помпон подошел к воротам нашей тюрьмы, застучался в них громко, и будто бы я выбежала за тем, чтобы отворить ему. Он был одет в белое платье очень богатой материи, увешанное по краям множеством золотых гранатов. Он сказал мне: «Перпетуя, я жду тебя; нс хочешь ли ты идти?» В ту же минуту он подал мне руку, и мы отправились по узкой тернистой дороге. Наконец, сделавши весьма много поворотов, мы подошли к амфитеатру, почти задыхаясь. Помнон довел меня до средины сцены и сказал мне: «ничего не бойся, я с тобою теперь; и я приду ратовать вместе с тобою и за тебя». Сказавши это, он ушел, и я осталась одна. Так как я была уверена, что мне придется выступить к зверям, то я и нс понимала, зачем медлили выпускать их против меня. В эту минуту явился эфиоп крайне отвратительной наружности, который пододвигался ко мне с толпою подобно ему безобразных, и предложил мне бороться. Тотчас молодые люди, весьма добрые, явились ко мне с услугами. С меня сняли одежду, и я чувствовала, что я стала мужественною, я сделалась ратоборцем сильным и могучим. Эти молодые люди вымазывали меня маслом, как нужно было мазаться тем, которые вступали в борьбу или бой. Но когда уже я была наготове вступить в рукопашный бой, один человек, высокого роста и осанистый, подошел ко мне. На нем была пурпуровая и длинная одежда, со множеством складок; застегивалась она бриллиантовою застежкою. У него была в руках трость, похожая на ту, какую имеют управители на играх; у него же в руках была зеленая ветвь, на которой висели золотые яблоки. Приказавши всем молчать, он сказал: «если эфиоп одержит победу над женщиною, то ему будет позволено убить ее. Но если женщина останется победительницею эфиопа, в таком случае она получит эту ветвь и эти золотые яблоки». Сказавши эти слова, он занял свое место. Мы схватились с эфиопом и начали сильную борьбу. Он употреблял все усилия свалить меня; я при осторожности избегала его хитростей, нанося ему множество ударов в лицо. Я чувствовала себя как бы поднявшеюся на воздух, откуда легко поражала своего противника. Наконец, видя, что борьба затянется слишком, я сложила свои обе руки так, что пальцы одной руки были промеж пальцев другой, и спустила их прямо на голову эфиопа; он упал на песок. Публика рукоплескала мне, и мои благородные защитники смешали мелодию своих песен с рукоплесканием народа. Что же касается до меня, то я подошла к надзирателю за играми, к чудному человеку, бывшему свидетелем моей победы, с целию требовать от него награды, и получила ветвь с золотыми яблоками. Вручая ветвь, он сказал мне: «дочь моя! да будет мир с тобою вечно!» Я вышла из амфитеатра теми воротами, которые назывались Санвивария. Так кончилось мое сновидение. Меня утешало только это видение, предсказывавшее мне борьбу и в то же время уверившее меня в победе.
Вот я записала все, что происходило со мною до дня представлений; если кто захочет продолжить рассказ этот, что было после, он может это сделать».
Продолжим же историю Перпетуи. Смотритель тюрьмы обращался со святыми страдальцами крайне сурово, потому что люди, или по злонамеренности, или по глупому суеверию, заставили его опасаться, чтобы они не ушли из тюрьмы посредством волшебства, в котором вообще тогда подозревали христиан. Перпетуя смело сказала ему: «а вы, вероятно, умеете хорошо обращаться с замечательными личностями, приближенными к цезарю и своими подвигами прославляющими день его рождения? Отчего же вы мешаете нам пользоваться этою маленькою льготою, которая дозволена им для этого дня?» При этих словах трибун покраснел и смешался и, желая, чтобы тюремники забыли о дурном с ними обращении, дал новое приказание, но которому с заключенными в тюрьме должно было обращаться благосклонно, – братьям давалась полная свобода посещать их и лицам всех званий дозволено было приносить им подарки и вспоможения.
Вечером накануне представлений, по обыкновению, обреченным для зверей давался ужин, который называют свободным ужином. Святые страдальцы, насколько возможно, этот ужин сделали вечерию любви. Комната, в которой они вкушали, была полна народу. Мученики, хотя не вдруг, все-таки обратились к нему с речью. То говорили им с ужасающею силою об угрожающем гневе Божием, то объявляли им, что Бог взыщет от них ту невинную кровь, которую они намерены пролить; по местам, в виде иронии, упрекали народ в его зверском любопытстве. «Ужели завтрашний день не удовлетворит, говорит Сатир бесчеловечному народу этому, вашему любопытству и не доставит вам полного удовольствия от рассматривания нас; ужели он не в состоянии будет укротить ненависть, которую вы к нам питаете? Сегодня вы кажетесь тронутыми нашею судьбою, а завтра будете радоваться нашей смерти и станете рукоплескать нашим убийцам. Всмотритесь хорошенько в наши лица, чтобы вам было можно узнать нас в тот страшный день, когда все люди будут судимы». Эти слова, произнесенные с полным убеждением и со всею силою, какую дает только защита правого дела, навели ужас на большинство народа; одни удалились, объятые страхом, который, впрочем, прошел при первом благоприятном случае, но весьма многие остались для поучения и уверовали в Иисуса Христа.
Наконец, настал день, в который должно было открыться торжество наших великодушных подвижников и работорцев. Их вывели из тюрьмы за тем, чтобы представить в амфитеатр. Радость отпечатлевалась на их лицах; она сияла в их глазах, она выказывалась в их жестах, она же высказалась в их речах. Перпетуя шла позади всех. Спокойствие ее духа заметно было на ее лице и походке. Когда же пришли к воротам амфитеатра, на них хотели надеть одежды жрецов Сатурна, а на женщин одежду, какую носят жрицы Цереры. Но эти мужественные воины Бога истинного, всегда твердые и непоколебимые в верности, засвидетельствовали с клятвою и сказали: «мы пришли сюда добровольно, вследствие данного нам слова – не принуждать нас ни к чему такому, что неугодно Богу нашему». На этот раз несправедливость уступила справедливости. Трибун согласился на их предложение – явиться в амфитеатр в их обыкновенном платье. Перпетуя пела, помышляя об эфиопе, падение которого ей было уже предсказано. Ревокат, Сатурнин и Сатир грозили народу жестами и голосом. Когда они стояли насупротив балкона, где сидел Иларий, они кричали ему: «ты осуждаешь нас в этой жизни, но Бог осудит тебя на том свете!» Народ, будучи раздражен такою великодушною смелостью и желая оказать с своей стороны почтение консулу, требовал, чтобы их провели сквозь строй. Но святые радовались, что с ними так поступают, как поступали с Иисуоом Христом, их Богом и Учителем.
Кроме того демон, предчувствуя, что самый слабый пол готовился одержать над ним победу, с досады сделал то, что против обыкновения назначили дикую и бешеную корову для борьбы с Перпетуею и другими женщинами. Вслед за тем сняли с них платье и пустили их нагими за решетку. Но весь народ, бывший на этом зрелище, был объят ужасом и сожалением, видя молодую, нежную и знаменитую по происхождению гражданку, верную своему покойному мужу вдову, сердобольную мать, твердую христианку. Поэтому ее снова увели за перегородку и позволили ей одеться в свое платье. Перпетуя тотчас выступила вперед; корова хватает ее; поднимает и бросает на спину. Молодая страдалица, усмиривши ее и заметив, что ее платье было изодрано, проворно закрылась, занятая не столько болью, которую ощущала, сколько опасаясь за свою честь, которая могла тут пострадать. Поднявшись, она собрала свои волосы, которые до того времени были распущены (потому что неприлично было мученикам во время ратоборства иметь лице закрытым, так как люди обыкновенно закрывали лицо в день печали). фелицитата, заметивши, что свирепая эта корова худо действовала, а Перпетуя лежала на сцене, подбежала к Перпетуе и, подавши ей руку, помогла ей подняться. И обе они выставили себя готовыми выдержать новое нападение, но народ, хотя и оставался по-прежнему жестоким, не хотел их в те минуты вызвать на бой. Они пришли к воротам Санвивария, где Перпетуя была узнана одним оглашенным, имя которого Рустик. Эта достойная удивления женщина, как бы пробудившись после глубокого сна, спрашивала: когда ее избавили от той яростной коровы? Ей рассказали, как было дело: она ни за что не хотела этому верить и, только узнавши оглашенного и взглянувши на свое платье, изорванное во многих местах, и на несколько ран, на которые ей указали, только тогда она поверила. Затем, подозвавши к себе брата и оглашенного, она сказала: «пребывайте в вере, любите друг друга и не соблазняйтесь моими мучениями».
В это время Сатир, удалившись в один из портиков амфитеатра, сказал Пуденту: «не говорил ли я тебе раньше, что звери мне ничего не сделают, что все мои желания, кроме одного, исполнятся? так веруй же ты от всего сердца в Того, в Кого я верую. Вот леопард в амфитеатре должен лишить меня жизни». И действительно, к концу представлений леопард, бросившись на него, ударом зубов так его ранил, что кровь полилась из него большою струею, так что народ кричал: «вот крещяющийся в другой раз!» Тогда, обращая свои последние взоры к Пуденту, Сатир сказал: «прощай, мой друг! помни о моей вере и подражай ей, да не смущает тебя моя кончина, но, напротив, пусть ободряет и укрепляет она тебя на страдания». Затем, снявши с своего пальца перстень, он окунул его в своей крови и, подавая его Пуденту, сказал: «прими его, как залог нашей дружбы, носи его из-за любви ко мне, и пусть кровь, которою он обагрен, напоминает тебе о том, что я сегодня проливаю ее ради Иисуса Христа». После сего он был перенесен туда, где кончали жизнь те лица, которые не умирали от своих ран.
Но когда кровожадный народ потребовал, чтобы другие мученики, только слегка раненые, были снова выведены на сцену и уже на неизбежную смерть, тогда они сами собою все вместе поднялись с мест своих и, давши друг другу святое лобзание мира, взошли туда, куда народ требовал. Все они встретили смерть без малейшего волнения, не испустив ни одного звука жалобы, даже ни одного стона. Сатир, сообразно с видением Перпетуи, в котором он показался вперед всех взошедших на высоту чудной лестницы, скончался вперед всех; за ним – Перпетуя. К несчастию, она попала в руки гладиатора весьма не бойкого, которого дрожащая и непривычная рука, нанося Перпетуе только легкие раны, заставляла ее долго мучиться. Поэтому-то она была вынуждена сама поднести к своей шее меч этого неопытного ратоборца, указывая ему на место, где он должен воткнуть меч. Он так и сделал. (Извл. из соч. прот. В.Я. Михайловского).
Нашли ошибку на сайте? Пожалуйста, помогите нам стать лучше! Выделите текст ошибки и нажмите Ctrl + Enter.
Также вы можете сообщить об ошибке, перейдя по ссылке: Сообщить об ошибке